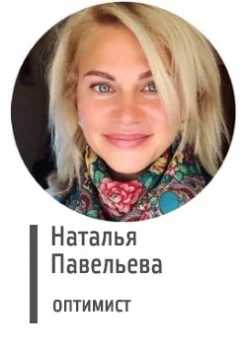
На второй день знакомства папа пригласил маму в столовую спирткомбината.
В развитии отношений и ухаживании за нежным полом папа был неопытен, про Дон Жуана и Казанову не читал, а мама была робкой и застенчивой. Каждый взял по подносу, и оба, заставляя глянцевое разноцветье без бумажной подложки общепитовскими безликими тарелками с первым, вторым и третьим, начали восхождение к кассирше в высоком накрахмаленном марлевом колпаке, внушительно восседавшей, как на троне, за кассой.
Хлеб тогда нарезали толстыми ломтями и ставили в общих тарелках на каждом столе, отдельно за него не платили — ешь, сколько влезет.
По пути в папиной голове внезапно начали роиться абрикосово-мятные ноты, ложась фигурно мотивом новой песни, и папа почти топотал копытцем, чтобы эти ноты аккуратно извлечь в том же порядке и записать, не потеряв ни единой — да вон, хоть на белых салфетках, что лежат пухлыми стопками на столах рядом с горчицей, перцем и солью.
У кассы папа оказался первым, как и положено настоящему джентльмену. Рассчитавшись без сдачи за свой комплексный обед, он ринулся к ближайшей девственно невинной, как монашка, салфетке.
На бегу одной рукой папа нашарил в нагрудном кармане пиджака чернильную ручку-автомат и уже навёл пером прицел. Другая рука, балансируя, как жонглёр-эквилибрист, удерживала без перекосов нагруженный поднос со столовским роскошеством с довеском в стакан сметаны.
Оглядываться и вертеть головой в таких условиях невозможно! Какой там! Даже про голод на время композиторского зуда пришлось забыть.
Не притронувшись к тарелке с горячим супом, источавшей аромат насыщенного мясного бульона из мозговой косточки (раньше суп ели перед салатом, а не наоборот, как сейчас, а про стакан воды перед едой любая бабушка на скамейке засмеяла бы), не намазав специальной палочкой щедрым слоем горчицу на хлеб, не посолив, не пробуя, гуляш, папа начал располагать в одному ему слышном порядке ноты, цепляя их на нотный стан, как прищепки на бельевую верёвку.
Чернила на мягкой пористой бумаге расползались, укрупнялись, сливались, но папу это ничуть не смущало, потому что зрительно он успевал запомнить написанную шаловливо-кокетливую ноту быстрее, чем она расплывётся узорчатым фиолетовым разводом и пошлёт на прощание свой абрикосово-мятный воздушный поцелуй.
Мама. А что мама? Не ожидавшая такой прыти от высокого с густой копной тёмных волос вчерашнего незнакомца — сегодняшнего знакомого, который после танцев, незаконно используя своё служебное положение, насильственно удерживал в заложниках её номерок на модное, стёганое, но единственное в гардеробе болоневое пальто, нахально при всех заявившего: «Будешь моей женой» — и после шантажа: номерок в обмен на адрес — отправившегося провожать её в заводское общежитие, в общем, не ожидавшая такого поворота сюжета, мама беспомощно растерялась.
В их Рязани, откуда она приехала на практику, молодые люди платили за съеденный девушкой суп, салат и выпитый компот (про равноправие полов, феминизм, гендерное равенство, ой, я вас умоляю, тогда не то что не слышали, тогда морду бы набили).
В кармане модного стёганого пальто лежал счастливый, ещё не съеденный, автобусный билет, но не мелочь.
Кассирша выжидающе смотрела, очередь нетерпеливо гудела. В обеденном зале стоял разноголосый гомон и вещало радио. Застенчивая и робкая мама решила, что окрикивать — не вариант, просить деньги — не комильфо, поесть в долг под запись — неприлично, и единственно верный выход — расставить по местам свои порции с первым, вторым и третьим и вернуться в свой цех раньше обеденного перерыва.
Папа обнаружил отсутствие мамы на стакане сметаны, перед компотом. И искренне этому удивился. Он завертел головой во все стороны, негодуя, что она уселась за другой стол, а не рядом с ним.
— Какая капризная, строптивая девушка, — распылялся он. — Пришли вместе, а едим отдельно, хотя я уже чётко обозначил свою позицию относительно будущего замужества!
Нигде не обнаружив хрупкий силуэт, папа вскипел ещё больше.
— Что нужно этим нежным созданиям, как себя с ними вообще вести, к чему эти таинственные игры и не к месту странные исчезновения!?
— Ну ничего, ничего, укротим, — решил папа и вечером явился по известному адресу узнать, а в чём, собственно, дело?
Мама вышла с потупленным взором и ни в какую не отвечала на чудовищно неделикатный вопрос: «Ты почему ушла?». Проявив все чудеса партизанской стойкости, мама в тот день так и не выдала секрет Полишинеля, а папа решил, что женская натура чрезвычайно тонка, загадочна и полна сюрпризов.