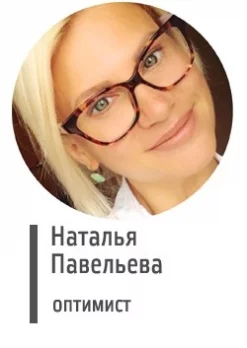
Кроме «дедморозишных» подарков папа всегда приносил домой покрывало мандаринов и ящик газировки «Буратино».
Не знаю, где он брал всё это богатство в эпоху тотального советского дефицита, но каждый год я прыгала на пороге, широко открыв дверь, и папа, топоча подошвами ботинок, стряхивал налипший снег, заходил в дом и брякал стеклянными бутылками лимонада со щербатыми железными крышками-пятачками об пол в прихожей.
Потом он разувался, стоя прямо, снимал ботинки без рук, пяткой о пятку, заходил в зал, скидывал на ковёр мешок, скрученный из покрывала. Хвостики покрывала разлетались на все четыре стороны, и тогда катились резво, почти вприпрыжку, обгоняя друг друга, ярко-оранжевые цитрусовые кругляши с маленькими чёрными наклейками в кислотно-жёлтых буквах Maroc на боках.
Иногда в мешок к мандаринам затёсывались краснобокие сочные яблоки, но за ними приходила мама с плетёной корзинкой. А мандарины собирала только я одна.
Для этого у нас было два специальных мандариновых ведёрка и мандариновый бидончик. С гремящими железными ручками, эмалированные, желтоватые внутри, разноцветные с рисунками снаружи. У всех были крышки, но они лежали на полке в кладовке, потому что мандарины всегда накладывались с горкой.
Горка исполнялась на месте, когда и вёдра, и бидончик перемещались на кухню. Папа ел котлеты с картофельным пюре и толстыми ломтями белого хрустящего хлеба, запивая молоком из большой кружки, а я колдовала, укладывая верхушки в форме виноградной кисти. Иногда мне хотелось выложить звёздочку или снежинку, поменять порядок, но получался только виноград.
После мы одевались тепло и уходили на концерт.
Папа в эстрадке переодевался в белую рубашку с твёрдым воротничком и прямоугольными прозрачными запонками, которые сверкали на сцене, как камни из фильма «Бриллиантовая рука» – ну, там, где сейф открывают; чёрный костюм, лакированные туфли и выходил на сцену.
Он пел свои и чужие песни. Из своих песен мне особенно нравилась песня про ромашку-Наташку, потому что она была про меня, а из чужих запомнилась «Семёновна, Семёновна, а ну, давай, пляши». Мне было жалко эту Семёновну, на которую прикрикивают, чтобы она непременно плясала. А Лада, которая непременно станет бабушкой, мне нравилась почти так же, как ромашка-Наташка.
Я сидела на стульчике за кулисами, и когда папа посматривал на меня, переставала болтать ногами, думая, что отвлекаю. Иногда выглядывала из-за кулис в зал, зрители смеялись, видя мою голову, потому что, по правде сказать, я выглядывала туда чересчур часто.
После концерта мы одевались и шли домой. Папа держал меня за руку, чтобы я не ускакивала вперёд, и раз пять, не меньше, за очень короткую дорогу мы одновременно останавливались, задирали головы и смотрели на звёзды.
Дома первым делом я неслась на кухню – проверить, не упала ли с горок мандаринка.
На бидончиковой горке всегда не хватало верхушечки. И я каждый раз искала её по всей квартире, и каждый раз знала, что она в кармане у папы. Мне хотелось, чтобы он подольше побыл таким довольным и хитреньким, пока я ищу мандарин.
Обыскав все закрома, я подходила, садилась на диван рядом с папой и тяжело вздыхала.
И тогда он, радостный, доставал из кармана брюк мандаринку, подкидывал вверх и отдавал мне.
Я водружала мандарин на законное место и думала о том, что вот в следующем году я непременно соберу горку другой формы. А какой – придумаю в следующем году.
Ведь времени так много!