Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому информация для потребителей на упаковке и вывесках должна быть на русском языке. Если ко второму чтению проект не изменится, владельцам кафе и магазинов придётся отдирать с витрин надписи вроде coffee, fresh, sale и open*. В градостроительной сфере латиницу изгонят даже из фирменных наименований: ЖК в новостройках нельзя будет называть, например, «Green Дом» или «Family Park»*. Цель ограничений для иностранных слов депутаты описали так: формирование национально ориентированной среды и обеспечение защиты русского языка.
Кандидат филологических наук Станислав Оленёв рассказал нам, как защищают язык в других странах, чья письменность не боится латиницы и почему «Кока-кола» в Китае называется «Полный рот счастья», но в России так обращаться с брендами не станут.

Не fresh, а свеженина
11 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который лежит на рассмотрении уже больше года. Это не новый самостоятельный закон, а группа поправок в законы в разных сферах — коммерции, СМИ, рекламе, строительстве, культуре, госслужбе. Поправки касаются использования государственного языка и не вносят принципиальных нововведений, просто конкретизируют и увязывают друг с другом существующие законы.
В России с 2005 года нельзя использовать иностранные слова в рекламе и коммерции без перевода. Исключение — фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки. Новый же законопроект предписывает вообще всю информацию «о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах» приводить только на русском языке. Если формулировку ко второму чтению не изменят, использование слов вроде sale и open на витринах и в буклетах станет невозможным. Вместо них должны быть «распродажа» и «открыто».
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что противодействие излишнему использованию иностранной лексики — задача, с 2023 года прописанная в документе стратегического планирования — Основах государственной культурной политики. Они уверены, что как раз их инициатива и защитит русский язык тем, что «существенно ограничит использование англицизмов и иностранных слов в публичном пространстве».

Заимствованиям — да, иностранным словам — нет
Из пояснительной записки видно, что депутаты разграничивают регулирование заимствований и иностранных слов. С точки зрения лингвистики это вообще два разных вопроса. Любой современный язык в значительной степени состоит из заимствований разных исторических эпох. Например, больше половины существительных в этом тексте заимствованы из других языков, в том числе «депутат», «витрина», «информация» и «магазин». Научная и общественная дискуссия об отношении к галлинизмам, тюркизмам, англицизмам идёт столетиями, и нынешний законопроект её почти не касается. Он регулирует использование именно иностранных слов, то есть не адаптированных в русском, а буквально написанных на другом языке.
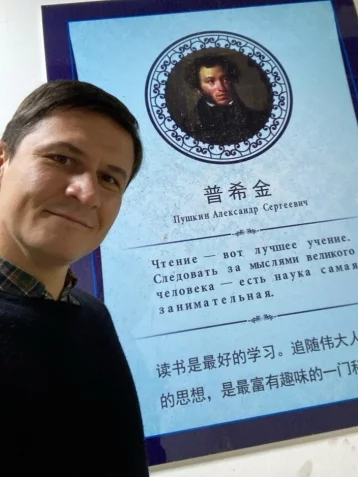
— Общая логика поправок связана с необходимостью сохранения и защиты культурной идентичности нашей страны: живем в России — пишем на русском языке, — комментирует Станислав Оленёв, кандидат филологических наук, доцент института иностранных языков Северо-Восточного нефтяного университета в Дацине. — Возможности использования миноритарных языков России, значимых в отдельных регионах страны, прежде всего в республиках, в законе сохраняются. В первой статье законопроекта явно читается, что все поправки связаны с понятием идентичности — гражданской, культурной, языковой. Это касается и коммерческих коммуникаций, не включая фирменные наименования, и поддержки соотечественников за рубежом. В этом смысле поправки вполне логичные. Похожий опыт защиты языка как элемента национальной идентичности есть и в других странах. Чаще других вспоминают опыт Франции, в которой французский язык защищен от влияния английского различными запретами и ограничениями.
Во Франции с 1975 года действовал закон Ба-Лориоля, который предписывал не использовать иностранные слова в публичной сфере, если у них есть французский эквивалент. На практике его соблюдали плохо, и в 1994 году министр культуры Тубон инициировал закон об обязательном переводе иностранных слов (примерно такая же норма у нас действует с 2020 года). С заимствованиями во Франции борются на государственном уровне: работает Комиссия по обогащению французского языка, которая создаёт новые слова и предлагает их для замены англицизмов. Решения комиссии носят рекомендательный характер, но в сферах, связанных с государством, педантично реализуются на практике: так вместо computer появился ordinateur, вместо e-mail — courriel*.
Эффективность этих мер, однако, оценить сложно, ведь целевых показателей нет: и в России, и во Франции законодатели упирают на сохранение культурной идентичности, которую сложно измерить цифрами.

Не CHKALOV, а Чкалов
В большинстве стран «языковые» законы не касаются названий и товарных знаков. В России это пока тоже так, но депутаты решили пойти дальше в одной отдельно взятой сфере — капитального строительства. Если законопроект не изменится ко второму чтению, строящийся жилой комплекс можно будет называть только на русском языке. По мнению депутатов, ЖК оказывают особенное влияние на языковое окружение, формируют городскую среду. И названиям вроде VESNA, Green Дом, CHKALOV или Abrikos в ней не место. По данным центра маркетинговых исследований GMK, в Москве и Петербурге доля иностранных названий (или русских, но на латинице) достигает 20%. Правда, в других городах их гораздо меньше — от 1% до 6%.
К чести депутатов, они пытаются минимизировать сложности застройщиков: профильный комитет Госдумы в отзыве на законопроект призвал установить переходные положения, касающиеся правовых последствий переименования.
Не дедлайн, а крайний срок
Товарных знаков и названий в других сферах законопроект не касается — порошок Tide не станет «Приливом», а конфеты Skittles — «Кеглями». В других странах такое бывает — например, часто переводят названия брендов в Китае. Правда, закон тут почти ни при чём, таковы культурно-языковые традиции.
— В коммерческой сфере надписи на английском встречаются, запрета на них нет, — рассказывает Станислав Оленёв. — У китайцев эта сфера идентичности настолько сильна, что они не боятся латинского алфавита. Взять, например, самую массовую сеть китайских кофеен. Для всего мира это Luckin Coffee, а для китайцев 瑞幸咖啡 — читается как «жуйсин кафей». Если каждый иероглиф перевести отдельно, получится что-то близкое по смыслу: первый иероглиф не переводится и нужен просто для созвучия, а вот второй переводится как «удачливый». Третий и четвёртый — просто «кофе» по-китайски.
Иногда заимствованные слова включают в систему китайского языка «как есть», подбирая морфемы на китайском примерно так же, как в России превращают Pampers в памперсы. Китайские морфемы могут придавать названию бренда дополнительный смысл — такая игра слов в азиатском маркетинге считается особенно удачной.
— «Кока-Колу» и «Сникерс» они не пишут латиницей, а подбирают созвучные слова и морфемы, которые пишут китайскими иероглифами. 可口可乐 — читается примерно как «кэкоукэла». Буквальный перевод: «можно рот можно счастье». Смысл — «полный рот счастья», — объясняет лингвист.

В Исландии похожие приёмы используют в отношении заимствований, причём, как и во Франции, на уровне государственной языковой политики: заменяют их словами, образованными из исландских корней. Например, тот же computer: с подачи Совета по исландскому языку в словари внесли слово tölva — соединение исландских слов tala («число») и völva (вёльва, «провидица»). Получился не просто «вычислитель», а «предсказатель чисел» — странно и непривычно, зато по-исландски.
В России по той же схеме во время спора западников и славянофилов «аэроплан» превратился в вообще-то довольно забавный «самолёт», а в Польше «автомобиль» — в «samochód», но это произошло без участия госкомиссий.
В новом законопроекте о переводе заимствований речь не идёт, зато он подчёркивает, что слова в публичной сфере должны соответствовать современным литературным нормам русского языка, приведённым в справочниках и грамматиках. Соответственно, использование англицизмов, не успевших попасть в словарь (например, «фудзона» или «байер») нарушит эту норму, если у слова будет русский эквивалент. Правда, в новом февральском отзыве на законопроект профильный комитет Госдумы (в этом случае — по культуре) указал, что справочники и грамматики, предназначенные для этой цели, пока… отсутствуют. И рекомендовал отложить вступление законопроекта в силу до тех пор, пока их не утвердят. Об ответственности за нарушение тем более говорить рано.
Не кибете, а магазин
Отдельная тема — языки народов России. Депутаты предлагают внести в «Основы законодательства РФ о культуре» строчку о том, что русскому языку принадлежит «объединяющая роль в историческом сознании многонационального народа Российской Федерации», которая при этом «гарантирует сохранение культурной самобытности всех народов […], этнокультурного и языкового многообразия». Эти реверансы предваряют старую пилюлю для Татарстана, Чечни, Тывы и других национальных республик: к языкам народов России в тех же случаях предлагаются те же требования, что и к иностранным языкам. То есть перевод на русский язык должен быть, во-первых, обязательно, а во-вторых — равнозначным по размещению и техническому оформлению.
Строго говоря, эта норма прописана в законе о госязыке и сейчас, но отраслевое законодательство не содержит ссылок на него, и потому привлечь нарушителя к ответственности сложно. Нарушение ряда норм закона «О государственном языке» пока не наказывается само по себе: например, за строчку в прайсе «2 BIG шаурма HOT»* штрафуют не за использование иностранного слова как таковое, а за введение в заблуждение потребителя, не владеющего английским языком.

Резюмируем, что будет, если законопроект примут в нынешнем виде.
- Фирменные наименования, зарегистрированные товарные знаки, названия (кроме ЖК) переводить не надо: кафе «Чирәм», напиток 可口可乐, автомобиль Tank — так писать можно.
- Названия жилых комплексов и микрорайонов надо изначально давать на русском. Если оно уже английское — переводить его не нужно, а нужно писать кириллицей. То есть Green Park* должен сменить вывеску не на «Зелёный Парк», а на «Грин Парк». Ну, или переименоваться.
- Коммерческие обозначения и информация для потребителей должны быть только на русском. Coffee, sale* — так писать нельзя, должно быть «кофе» и «распродажа». А вот на языках народов России давать такую информацию можно, но, как и сейчас, надо будет обязательно переводить на русский надписями того же размера.
- Механизмов привлечения к ответственности законопроект не касается. Вероятнее всего, они останутся прежними: штрафовать будут за нарушения отраслевых законов, а не самого закона о госязыке.
Ко второму чтению законопроект может измениться: профильный комитет внёс замечания и рекомендовал его принять с условием «существенной доработки».
*Сoffee (англ.) — кофе, fresh (англ.) — свежий, sale (англ.) — распродажа, open (англ.) — открыто, green (англ.) — зелёный, park (англ.) — парк, family (англ.) — семья, computer (англ.) — компьютер, ordinateur (фр.) — компьютер, e-mail (англ.) — электронная почта, courriel (фр.) — электронная почта, big (англ.) — большой, hot (англ.) — горячий
Иллюстрации: сгенерированы ИИ
Фото: Станислав Оленёв